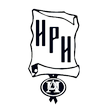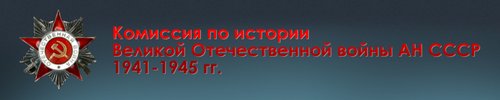История и историки: историографический вестник. 2006. М., 2007. С. 343-362.
______________________________________________________________________


Писать о близком человеке, особенно об отце – непросто. Тем более, если он был не только отцом, но и Учителем – и в жизни, и в профессии. Прошло уже двадцать лет, как его не стало. Утихла, но не прошла боль, уходят из памяти детали. Сохраняется главное – образ отца, который был и останется самым значимым человеком в нашей жизни.
У отца была трудная судьба. На его долю выпали все испытания послереволюционной эпохи: несытное и неуютное детство 1920-х – 1930-х, фронтовая юность, послевоенное вхождение в мирную жизнь. Он родился в 1923 г. в семье студентов-рабфаковцев. Наш дед-большевик порвал с семьей и недоучившимся гимназистом примкнул к революционерам. О своем «социальном происхождении» (прадед был потомственным дворянином, до самой войны оставшимся жить в эмиграции, в Прибалтике) отец узнал только в конце 1940-х, вернувшись с войны боевым офицером. Лишь с возрастом отец стал интересоваться «корнями», но врожденный аристократизм в нем отмечали многие уже в юности.
Студенческая семья оказалась непрочной. Родители отца расстались, когда ему было всего два года. Его мать ушла, и эта первая психологическая травма осталась у отца на всю жизнь. Дед – партийно-хозяйственный чиновник, менял места работы, проживания, жен и женщин, и живший у него ребенок был далеко не на первом плане. Появились другие дети – сводные братья, сестра.
Значимый эпизод, повлиявший на последующие жизненные коллизии: в раннем детстве отец оказался в Дании, в Копенгагене, где дед находился по долгу службы, и несколько лет проучился в немецкой школе. С тех пор он, даже забывая слова и обороты, до конца жизни говорил по-немецки практически без акцента, на чистейшем берлинском диалекте, чему и сам был удивлен, уже в 1970-х годах побывав в ГДР. Не отсюда ли его более поздний, в юности интерес к филологии?
С 13 до 16 лет отец жил в детском доме, от которого у него навсегда остались теплые воспоминания и несколько верных друзей, отношения с которыми он поддерживал до конца жизни. Там пришла к нему первая любовь, трагически оборвавшаяся в 1941 г.: его Маргарита ушла защищать Москву и погибла в истребительном батальоне. Дальше – основные «вехи», скупо отраженные в автобиографии:
«С 1936 по 1939 г. воспитывался в детдоме. После окончания 7 классов средней школы поступил учеником токаря в ФЗУ, по окончании которого работал токарем на 2-м Механическом заводе Метростроя в Москве. В июле-августе 1941 г. был эвакуирован в Новосибирск, откуда ушел добровольцем в Красную Армию. После окончания офицерского танкового училища был направлен на фронт. Воевал в качестве командира танка Т-34 и командира взвода разведки танкового полка. Был ранен в голову, контужен в июле 1944 года. Затем снова воевал в качестве командира среднего и тяжелого танка. В марте 1945 года был направлен из резерва БТ и МВ на учебу в Военный институт иностранных языков Красной Армии на спецфакультет, который окончил в 1946 году, и направлен для прохождения дальнейшей службы по полученной военной специальности. В мае 1948 г. был признан ограниченно годным вследствие перенесенной на фронте контузии и уволен в запас».
За скупыми строчками – фронтовая юность. В 1943 г. отец окончил Пушкинское танковое училище в г. Рыбинске. 16 августа 1943 г. Приказом командующего БТ и МВ № 0572 ему было присвоено звание младший лейтенант. А дальше – военный эшелон, везущий недавних курсантов куда-то в южном направлении. Бомбежка в пути, во время которой погибли многие его товарищи, так и не успев доехать до фронта. И первый бой, который он принял не где-нибудь, а на Курской дуге. Их бросили в бой «с эшелона»: танковые экипажи формировали прямо на марше. Было это в разгар Белгородско-Харьковской наступательной операции, когда 11-20 августа противник предпринял ряд контрударов крупными силами танков и пехоты в полосе Воронежского фронта. Завязались ожесточенные встречные сражения, стороны понесли большие потери, и только введенные в бой резервы помогли отразить удары немцев.
Вот как описывал он этот эпизод своей биографии в «Лейтенантских мемуарах», которые в 1985 г. начал надиктовывать дочери, но так и не успел их закончить:
«Вскоре нас разбили по экипажам, соединив со следовавшим от Москвы в нашем эшелоне сержантским составом. Где-то, не доезжая станции, на временные платформы сгружались танки из других эшелонов. Нас повели туда. И мне вручили новенькую «тридцатьчетверку». Маршевой ротой, на своем ходу мы влились в какую-то танковую часть. Я даже не помню ни номера ее, ни того места. Сплошные безымянные высоты и причудливые названия деревень, которых столько побывало у нас на картах и на местности, что ни одной не запомнишь. Только помню, что где-то в стороне от нас находилась Прохоровка. О ней много говорили… Там начались бои за много дней до того, как прибыл наш эшелон.
В месте сосредоточения нас встретил полковник, созвал офицеров и поставил боевую задачу.
- Там, – указал он в сторону фронта, – идет ожесточенный бой. Раскройте карты. С ходу вы должны поддержать действия такого-то танкового соединения. Потери у нас огромные. Не хватает машин и людей.
Он указал ориентиры на местности и приказал командирам рот построиться в боевые порядки «клином вперед». Мы одели шлемы, разошлись по своим танкам и двинулись в заданном направлении. Не прошло и получаса, как навстречу нам стали попадаться сожженные танки, немецкие и наши, обгорелые трупы танкистов, наших и немецких, стертые с лица земли селения, вереницы раненых, идущих в наш тыл. А еще через несколько минут мы сами вступили в бой, сходу. Очевидно, это спасло положение наших частей.
От этого боя осталось такое воспоминание – сплошная лавина стали, лязг гусениц и огонь, огонь, огонь. Огонь орудий, огонь загорающихся и догорающих танков. Сплошное месиво.
Мой танк шел «клином вперед». Я вошел в соприкосновение с противником. По-моему, успел подбить пару танков. А может, их подбил кто-то другой. Во всяком случае, я увидел в триплекс вспыхнувшие громады с крестами, по которым вел прицельный огонь. Потом почувствовал удар, толчок. Запахло гарью. Кто-то из команды крикнул: «Горим!». И точно: приоткрыв на секунду крышку люка и тотчас захлопнув ее, увидел, что пламя охватило мотор и трансмиссию. Очевидно, немец саданул сбоку и попал то ли прямо в бензобак, то ли в сам мотор. Так как огонь подбирался к снарядам (у нас оставалась неизрасходованной почти половина боекомплекта) и в любую секунду должен был произойти взрыв, я вынужден был отдать приказ покинуть машину. Через нижний люк (на днище) сначала вышли механик-водитель, радист, вслед за ними башнер и я последний. Башнер паниковал и чуть было не выскочил через верхний люк. Мне даже пришлось ему пригрозить… Не успели мы отползти, а затем короткими перебежками отбежать от горящего танка, как он взорвался. Осколком был тяжело ранен один из членов моего экипажа, который вскоре умер, – его не успели довезти до медсанбата: подползшая санинструктор уже ничем не могла ему помочь.
Вскоре мы смешались с другими экипажами сгоревших танков и вместе отправились в место резервного сосредоточения на случай аварийного выхода из боя…Санитары подбирали раненых, уводили их в тыл. А из спасшихся из горящих танков экипажей тут же создавали новые и сажали в уцелевшие машины, экипажи которых погибли, или в те танки, которые были отремонтированы тут же работавшими походными мастерскими. Но машин сгорело так много, что не всем доставались другие. И уцелевших танкистов отправляли в резерв. Так я попал в резерв фронта, а затем в числе других офицеров, оставшихся без машин, в составе маршевой роты был направлен за новыми танками, как потом оказалось, в Омск. После неимоверного грохота боя, пороховой гари, горелого металла, кромешного ада, поражала тишина местности, по которой следовал поезд…»
Самого страшного отец не хотел записывать. Не хотел жутких подробностей. Рассказал уже потом. Как бегали, ползали, крутились живые факелы – и наши, и немцы. Как от прямого попадания отлетали башни танков, разрывая пополам сидевших наверху командира и башнера. Как, заглянув в подбитую машину, он увидел обгорелые кисти рук, вцепившиеся в штурвал, – все, что осталось от знакомого танкиста… «Многое пришлось повидать, – признавался он, – но большего ада, чем на Курской дуге, не доводилось видеть за всю войну…»
Потом был учебный танковый батальон при военном заводе в Омске; маршевая рота, отправленная с новыми машинами на запад; и в октябре-ноябре 1943 г. кратковременное пребывание в формируемой под Рязанью польской танковой бригаде им. Домбровского, куда были переданы полученные танки.
Вот как вспоминал отец о своих встречах с польскими братьями по оружию и возникавших при этом психологических коллизиях:
«Выгрузив танки, мы своим ходом прошли несколько километров вглубь леса и остановились около расчищенных, посыпанных песком аллей палаточного городка. По аллеям ходили люди в незнакомой нам военной форме с орлиными гербами на четырехугольных фуражках. Как потом мы узнали – в конфедератках. Мы прибыли в формирующийся под Рязанью Польский корпус генерала Берлинга... Начались напряженные занятия с польскими танкистами по передаче нашего боевого опыта. Но и мы тоже знакомились с их обычаями и жизнью. В частности, рота настоящих поляков, которые, кстати, кончили наше же Пушкинское танковое училище в г. Рыбинске, вместо политинформации молилась со своим ксензом...
Вскоре я был вызван к командиру батальона подполковнику Иванову, который встретил меня во всем блеске польского мундира (еще недавно он был в нашей форме). Он начал прямо, без обиняков:
– Ты Сенявский, я Иванов. Кому из нас надо служить в польском корпусе? Согласен?
– Товарищ подполковник! Разрешите мне остаться в Красной Армии и в ней воевать. Если придется погибнуть, я хочу умереть советским офицером.
– А мне, по-твоему, что, не хочется воевать в своей армии? – обиделся он. – Раз нужно, значит нужно ... помогать нашим братьям по оружию.
– Если это приказ, то я вынужден подчиниться. Если это предложение, разрешите отказаться. Можно идти?
– Идите. Вам сообщат о моем решении.
Мой товарищ Женя Федоркин тоже отказался переодеваться в конфедератку. И мы опять оказались в маршевой роте».
С ноября 1943 г. отец воевал на Карельском фронте, &‐ сначала на Медвежьегорском направлении, против финских частей. Был командиром танка 376 отдельного линейного танкового батальона, затем командовал взводом разведки в 90 отдельном линейном танковом полку 32 армии. В ходе наступления наших войск в июле 1944 г. отец получил ранение и контузию.
Из этого этапа его фронтовой биографии навсегда врезался в память бой в районе станции Масельская 15 апреля 1944 г. В тот день танковая рота, в которой он служил, прорвала линию обороны противника, вышла к водной преграде, но была задержана сильным противотанковым огнем. Лишь один танк, – им командовал отец, – сумел вырваться вперед и проскочить через мост, который был тут же взорван. Остальные машины и пехота остались на другом берегу. Но, оказавшись отрезанным от роты, экипаж продолжал сражаться и наносить урон неприятелю, пользуясь его коротким замешательством. Было подавлено несколько огневых точек, но все уцелевшие разом обрушились на одинокий танк, ворвавшийся в их расположение. Машина была подбита, радист и механик-водитель ранены. Оборвалась связь с командиром роты. Финская пехота окружила танк, слышен был стук прикладов о крышку люка и крики: «Рус, сдавайс!». Затем машину подожгли. Над танкистами нависла угроза попасть в плен или сгореть заживо. Тогда отец взял гранату и приготовился бросить ее на боекомплект. Вся короткая довоенная жизнь промелькнула перед ним: детство, юность, московские улочки и дворики, лица отца, брата, любимой девушки… И в этот момент ожила рация: «Держись, иду на выручку!». Рота форсировала реку и отбросила врага. Вскоре отец выбрался из машины и не мог понять, почему так странно смотрят на него товарищи: за какой-то час виски его стали совсем седые... На следующий день в армейской газете «Боевой путь» появилась небольшая заметка, в которой весь эпизод уместился в одной скупой фразе: «Танк младшего лейтенанта Сенявского первым достиг вражеских траншей, за ним подошли и остальные машины».
С сентября 1944 г. в составе 38 гвардейской отдельной танковой бригады 19 армии отец участвовал в боях на Кандалакшском направлении – против немецких войск в Заполярье, где снова командовал «тридцатьчетверкой».
Перед нами лежат пожелтевшие фронтовые треугольнички и истертые на сгибах листы голубоватой трофейной бумаги – письма в далекую, родную Москву:
12 августа 1944 г.:«Дорогой мой папа! …Скоро я еду опять на передовую, так как уже основательно отдохнул и снова могу бить с еще большей силой фашистскую сволочь.»
15 октября 1944 г.: «Дорогой мой папа! …Вчера мы одержали крупную победу, о которой ты должен, если не сегодня, то завтра услышать. Наверное, дан будет приказ Сталина и наша любимая Москва третий раз будет салютовать победе, в которой и я принял долю участия. Мы заняли город, а какой, ты, конечно, догадаешься сам, так как знаешь, где я воюю. Скажу только, что от тех городов, что мы заняли летом, он много севернее. Как у вас дела? Сейчас я пока отдыхаю. За несколько недель, то есть со времени приезда в данную часть, я наконец могу-таки согреться и поспать под крышей. Хорошо, тепло…»
1 ноября 1944 г.: «Дорогой мой папа! …Здесь для меня нет и не может быть большей радости, чем получать от тебя письма, а из этого сделай вывод, как радостно, если ты часто пишешь. Я надеюсь, что и в дальнейшем ты не заставишь меня лишиться этой единственной радости. Есть, конечно, другая радость: это радость победы, но это уже не только личная, а общая наша радость… У меня пока ничего нового нет: стоим пока на отдыхе. Письмо это, наверно, придет к празднику, так что сердечно поздравляю с 22-й годовщиной Октября тебя и всех и желаю вам счастья. Надеюсь также, что это последний праздник во время войны, а первое мая 1945 г. мы будем справлять вместе в Москве и заодно отпразднуем нашу Победу. Да, 1 мая 1941 года мы чувствовали, что это последний мирный праздник, а через 6 дней мы будем справлять последний военный праздник, и тов. Сталин нам скажет в этот праздник что-то особенное, чего ждет весь мир… Ну, целую крепко. Жду частых писем… Твой горячо тебя любящий сын Спартак».
В личном деле в военкомате сохранилась боевая характеристика отца, из-за дефицита бумаги составленная на обороте фронтовой карты. Приводим этот документ полностью, чтобы передать колорит эпохи:
Боевая характеристика
На командира танка «Т-34» Отдельного танкового батальона гвардии младшего лейтенанта Сенявского Спартака Леонидовича
1923 г. рождения, русский, кандидат ВКП(б) с 1944 г. Образование: общее – 7 классов, военное – Пушкинское танк. училище 1943 г. В Красн. Армии с 1941 г. С XI. 1943 г. – Карельский фронт. Дом. адрес: гор. Москва, ул. Щукина. Отец – Сенявский Леонид Леонтьевич.
За время пребывания в Отдельном танковом батальоне гв. младший лейтенант Сенявский показал себя дисциплинированным офицером, знающим свое дело в совершенстве. Требовательный к себе и своим подчиненным, заботлив о подчиненных. Хорошо может руководить экипажем в бою и при этом проявляет храбрость, отвагу, смелость, мужество и инициативу. Политически грамотный, уставы БТ и МВ часть Iи IIзнает хорошо. Материальную часть танка «Т-34» и тяжелого танка знает хорошо. Танковое и личное вооружение знает отлично и хорошо из него стреляет. Тактически развит. Морально устойчив, идеологически выдержан.
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан.
Вывод: занимаемой должности соответствует.
Командир отд. танкового батальона
Гв. майор Донец
«28» января 1945 г.
«С характеристикой и выводом согласен».
Командир 38 Гв. отдельной танковой бригады
Гв. полковник Коновалов
«24» февраля 1945 г.
После расформирования Карельского фронта в ноябре 1944 г. танковая бригада, в которой служил отец, была переброшена на 2-й Белорусский. Там, в первых боях на территории Восточной Пруссии она понесла тяжелые потери в танках и личном составе, и в феврале 1945 г. была отведена на переформирование в резерв Верховного главнокомандования в г. Осиповичи Могилевской области. Оттуда отец, как знающий немецкий язык, был вызван в Управление Кадров БТ и МВ в Москву, где в марте 1945 г. его зачислили слушателем Военного института иностранных языков Красной Армии. Здесь он встретил 9 мая 1945 г.
В этой связи вспоминается его фронтовое письмо от 1 ноября 1944 года:
«Грозное время промчится,
С фронта вернусь я домой.
Верь, ничего не случится,
Отец мой далекий, родной…
Эта песенка сбудется и для нас, не правда ли? Знаешь, иногда, в жаркую минуту боя и приходилось не верить в возвращение. А как выйдешь из боя, увидишь солнце, и не верится, что умереть можно, кажется, что невозможно это. Разные бывали мысли и чувства, а иногда так и вообще ничего не соображаешь, но вот стоит отдохнуть, и снова хочется жить, любить, быть любимым, и не верится никак, что можно лишиться всего этого и остаться в этой угрюмой местности лежать навеки. Кажется сейчас, что дом, Москва, вы, так близко, так близко счастье… Ведь осталось так немного… Какое счастье было бы дожить до этого дня…»
Мечта сбылась: отец дожил до Победы. И качали его на площади девушки-москвички, как и многих других фронтовиков, оказавшихся в этот светлый день ликования в столице. А 24 июня он участвовал в Параде Победы в составе сводного полка Московского гарнизона.
С войны отец вернулся с несколькими боевыми наградами, из которых больше всего дорожил медалью «За отвагу».
После окончания ВИИЯКА в сентябре 1945 г. отец продолжал военную службу в 234 гв. посадочном воздушно-десантном полку 76 гв. воздушно-десантной дивизии. В 1948 г. вышел в запас по состоянию здоровья, так как последствия ранения и контузии исключали прыжки с парашютом.
* * *
Пока отец был молодым, он почти не вспоминал о войне. Наверное, слишком сильны и свежи были не только физические, но и душевные раны, сказывалось влияние того, что сегодня называют «посттравматическим синдромом». На его глазах погибали боевые друзья, да и он сам много раз был на волосок от смерти. Как ни странно, он мало говорил о войне со своим старшим сыном, но стал делиться воспоминаниями с поздним ребенком – младшей дочерью, появившейся на свет, когда ему было уже 44, – по ее просьбе.
Именно фронтовая юность оставила в его характере самый сильный след, закалив его и став мерилом жизненных ценностей. Там, на фронте 18-20 летние мальчишки не только 40-летних, но порой и 30-летних своих товарищей называли между собой «стариками», не предполагая, что очень скоро сравняются с ними в главном, военном опыте и сами будут смотреть как на «салаг» на новые, еще необстрелянные пополнения. Потом, после войны, для тех, кто уцелел, наступит психологическая разрядка и они снова станут мальчишками, стараясь наверстать упущенные радости жизни. Вот как вспоминал об этом отец уже на закате жизни: «На фронт уходили мы мальчишками. Мы рано, слишком рано становились взрослыми, ответственными не только за свою и близких своих судьбу, но за гораздо большее – за судьбы Родины! И все же мы оставались мальчишками, которые не могли равнодушно пропустить взгляд девчонки, но и не могли смириться с тем, чтобы девчонки нами “командовали”, даже ранеными. И по-мальчишески, вопреки здравому смыслу, не долечившись, мы удирали из медсанбата, порою и из госпиталя, снова в часть, снова в бой, для многих из нас уже последний. Так было! А те, кто выжил, пережили еще и непростую послевоенную судьбу. Мы позже учились и позже любили – ведь ни для того, ни для другого у нас не было времени в юности, отнятой войной. И вот, отслужив еще несколько лет после войны и проучившись еще лет пять, мы, юноши военных лет, становились снова “взрослыми” к тридцати. У нас было две юности: одна настоящая, отнятая войной; другая запоздавшая, послевоенная...». Эти строки отец написал в канун 30-летия Победы, взглянув на свою судьбу как бы со стороны. Это была его судьба и судьба целого поколения. Это он, едва оправившись от ранения и контузии, сбежал из медсанбата обратно в роту. Это он, суровый и сдержанный на фронте, был неисправимым шутником и заводилой в послевоенные студенческие годы. Стоит сравнить две фотографии – 44-го и 46-го годов. На обеих отец в военной форме, но насколько старше выглядит он на той, первой, в выгоревшей гимнастерке, перетянутый портупеей! Насколько старше выглядят они все, мальчишки 40-х, на своих фронтовых фотографиях.
Демобилизовавшись в мае 1948 г., отец поступил в Московский Государственный педагогический институт им. В.П.Потемкина, на факультет русского языка и литературы. Вот когда расцвела его вторая юность!
Вспоминает Евгений Басин, студенческий друг: «Первый курс. Мое первое впечатление о Спартаке – невысокий, изящный, в синем кителе. Маленькая изящная ладонь заложена, как у Наполеона, за обшлаг кителя на груди. Лицо красивое, бледное, немного высокомерное. Взгляд пристальный, серьезный, немного суровый, выражающий волю и сильный характер. Меня всегда удивлял контраст между этим выражением и тем, когда Спартак улыбался: лицо становилось каким-то мягким и в нем проступало что-то детское, затаенное. Смеялся он от души, но как бы сдерживая себя, – в этом мне видится сейчас глубокая внутренняя скромность Спартака. Вообще, первые годы нашего знакомства он очень любил смеяться. И подурачиться. А так как и я был охоч до этого, мы часто в воображении придумывали всякие забавные нелепые ситуации, и нас буквально распирал смех. Мы были молоды, и это было выражением нашей еще неистраченной энергии и фантазии… К нашим девочкам на курсе он относился слегка иронически, но добродушно-отечески…».
Отец страстно любил классическую музыку. В первые послевоенные годы, находясь в Москве, едва ли не каждый вечер выбирался на симфонические концерты в Консерваторию, в Концертный зал имени П.И.Чайковского или в театр – послушать оперу. Свою любимую «Травиату» знал наизусть и ходил на нее около 30 раз! Обладая абсолютным слухом (в детстве учился играть на скрипке) и неплохим голосом, сам в кругу близких друзей исполнял иногда оперные арии и старинные романсы.
Столь же трепетным было и его отношение к литературному творчеству. Вспоминает Евгений Басин: «Спартак был литературно-одаренным человеком. Известно, что человек – это стиль, или стиль – это человек. Еще на студенческой скамье он познакомил меня со своими стихами. В них сильно чувствовалось влияние Лермонтова. Лермонтов, Печорин, как мне кажется, хотя сам Спартак об этом не говорил, были долгие годы объектом его "подражания", даже внешнего. Было нечто архаичное в стихах, написанных боевым офицером, какая-то ностальгия по ушедшим и чем-то дорогим для него временам. Стихи были музыкальные, в них была нежная суровость, сдержанность глубокого чувства. Читал он мне позже и свою повесть. Хотел даже её, но безуспешно, напечатать. Я выскажу свое личное мнение: в ней виден несомненный литературный дар Спартака, но он так и остался по стилю, а значит в чем-то в глубине своей личности – несколько несовременным, романтически-байроническим героем, Печориным. Это было затаенное, очень глубокое, наверное, во многом неосознаваемое, но, судя по всему, – несвоевременное… Может быть, я ошибусь, но мне кажется, что Спартак, хотя он был серьезный ученый и всеми признанный, в душе всегда оставался поэтом. В этом состояло его истинное призвание. Бывает так, что время благоприятствует не для всякого дарования...»
Друг студенческой юности очень точно угадал поэтическую и романтическую натуру отца, его отношение к творчеству. Сам отец признавался в своем дневнике в 1958 г.: «Кумиром моим долгие годы был М.Ю.Лермонтов. Меня влекли к себе его неудержимо мятежный дух, его демоническое презренье ко всему ничтожному и убогому, красота и пленительность его смелой романтики… Я не представляю себе искусства, литературы, да и самой жизни без романтики. Да и можно ли без нее жить?! А между тем, так много еще не только в жизни, но и в искусстве, и в литературе сухого, казенного, лишенного не то что бы высокого полета мыслей, мечты, но даже элементарных чувств… Как беспощадно, цинично называя это новаторством, многие литераторы коверкают русский язык!..» А о собственных литературных опытах писал: «С детства сочинял стихи. Однажды портрет мой с надписью «Юный поэт Спартак Сенявский» поместили в газете «Вечерняя Москва». Это меня окрылило, потому что мне было только пятнадцать лет и я не знал еще всех превратностей жизни. Это было в 1938 году. Стихи писал я тогда вдохновенные, искренние, но наивные и сырые. Такими же они оставались поздней, во время войны. Мечтой моей было после войны поступить на литфак, что я и сделал, вернувшись из армии. Товарищи не находили мое творчество удачным, считая, что в нем мало идей, профессорам я его не решался показывать. И я всё сжег. Сжег стихи, дневники, записи, наброски прозы; а вместе с тем на долгое время, а может быть, навсегда, сжег самого себя…»
Литературная судьба у отца так и не сложилась – ни стихи его, ни автобиографическая повесть «Лунная соната» – о первой любви, трагически оборванной войной, – так никогда и не были напечатаны. Свой творческий потенциал он реализовал на ином, научном поприще. И завещал избрать творческий путь в жизни своим детям.
Читаем дарственные надписи на толстых научных монографиях, адресованные сначала совсем еще крошечной, а затем подрастающей дочери:
5 сентября 1967 г.: «Моя горячо любимая дочка. Когда эта книжка вышла в свет, тебя еще не было. А сейчас тебе еще только два месяца. Но папа твой видит тебя уже большим, здоровым, умным и счастливым человеком. Я хочу, чтобы жизнь твоя была интересной и содержательной. Не знаю еще, кем ты будешь, какие способности у тебя проявятся, но в любом случае, будь то искусство, литература или наука, – они должны привести тебя к творчеству. Творчество – это то, что делает жизнь интересной и содержательной. Без творчества жизнь пуста. Помни, моя девочка, всегда об этом. Твой папа».
15 апреля 1977 г.: «Моей любимой горячо, ненаглядной дочурке… Я хочу, чтобы ты росла здоровой и счастливой, а значит – умной и талантливой. Но помни, что талант – это упорный и неустанный труд. И пусть пройдет еще несколько лет, и ты начнешь издавать тоже книги: повести вырастут из твоих хороших школьных сочинений, а из милых детских стишков вырастет настоящая поэзия…».
20 октября 1982 г.: «Моя дорогая доченька! Вот я и дождался твоего литературного творчества, да еще печатного! Именно об этом мечтал я в тот год, когда ты родилась. И именно этого я желал тебе, даря тебе свою первую книгу. А в этой я горячо желаю т‐ебе большого счастья, которое слагается из здоровья, Настоящей Любви и полнокровной творческой жизни. Я надеюсь, что стихи твои скоро выйдут на страницы не только толстых журналов, но и отдельными сборниками стихов и завоюют многочисленную аудиторию почитателей твоего таланта. Это моя отцовская мечта и мое родительское завещание. И еще одно: нужно большое трудолюбие во всем, чтобы добиться успеха в жизни. Помни об этом, мой родной человек и верный мой друг. Твой горячо тебя любящий папа».
* * *
После окончания института в 1952 г. отца рекомендовали в аспирантуру на кафедре истории КПСС, одновременно его избрали освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ Института, в связи с чем он был вынужден перевестись в заочную аспирантуру. В 1954-1955 гг. отец – ассистент кафедры истории партии в Институте стали, затем в течение двух лет – помощник директора технического училища по воспитательной работе: найти в то время работу по прямой специальности было нелегко. Стремясь оказаться «поближе к науке», с октября 1957 по август 1960 гг. отец работал референтом-консультантом в аппарате Президиума АН СССР. Но чиновничья служба откровенно его угнетала. Тем более что окружавшая его атмосфера была не самой здоровой, а отец, по-фронтовому прямой и принципиальный, был чужд и канцелярским обязанностям, и «бюрократическим играм». В своих дневниках в 1958 г. он с горечью записал:
«В 1952 году я окончил литфак пединститута, но вместе с тем покончил с любимым делом, с литературой, уйдя в работу не по призванью, в работу, дающую только хлеб. И здесь я познал трагедию чувствующего и мыслящего человека, обреченного прозябать и коснеть в духовной и умственной пустоте. Нет, я хотел и мыслить, и чувствовать, но было уже поздно – жизнь схватила меня за горло и душила, лишая воздуха, дыханья, то есть любимого дела, полноценной духовной жизни: у меня уже была семья, а ей нужен был кусок хлеба. И я не мог уже распоряжаться собой, как я это сделал когда-то, променяв обеспеченное офицерское положение на полунищенскую, но красивую жизнь студента…Так я сижу сейчас в этой зловонной своим невежеством, тупостью и, конечно, самодовольством канцелярии, теряя дни, теряя годы, теряя … себя. Лишь редкие минуты еще я вырываю для творчества, но это, во-первых, минуты, а во-вторых, – между томительными днями бессмысленной, отупляющей суеты. А творчество требует сосредоточенности, настроения и благоприятной обстановки… И все же я не могу с ним расстаться, потому что только в нем и в нем моя жизнь.»
Литература и наука – вот две области творчества, к которым стремился отец, в которых видел свое призвание. И, в конце концов, ему – уже зрелому человеку, почти под сорок лет, все же удалось реализовать свою мечту и по-настоящему заняться наукой. «Слава богу, я возрожден к жизни! – записал он в своем дневнике 25 августа 1960 г. – Сегодня академик Островитянов, и.о. президента АН СССР, подписал распоряжение о моем переводе в Институт истории. Начинается новая эра!». 12 сентября появляется новая запись: «С 29 августа я младший научный сотрудник. Меняю тему, но наступило моральное удовлетворение – наконец-то я занят любимым делом, жизнь снова приобретает смысл. Есть трудности, будут и впереди, но занят я интересным и нужным делом, так что трудности не страшны». И наконец, 11 декабря: «На работе все хорошо. Заниматься приходится много, но дело умное и интересное большей частью – одним словом, научная работа, к которой я пять лет рвался и, наконец, вернулся».
С августа 1960 года и до конца жизни отец работал в Академии наук СССР, сначала в Институте истории, а потом – в Институте истории СССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором. Работал также в Институте международного рабочего движения при ВЦСПС, преподавал в Московском Государственном институте иностранных языков им. М.Тореза (был профессором кафедры научного коммунизма), и др.
Отец очень быстро наверстал упущенное в науке. «Стартовав» тогда, когда более благополучные сверстники, не прошедшие фронт, и намного более молодые давно защитили диссертации, он быстро стал профессионалом: за три года написал кандидатскую, опубликовал ряд монографий, затем защитил и докторскую (несмотря на случившийся летом 1973 г. первый инфаркт).
Отца интересовала современность, и в истории он занимался приближенными к настоящему периодами. Многие историки снобистски-скептически относятся к такой проблематике, но для отца историей было все, что уже состоялось. И мы солидарны с ним: изучать можно и нужно все эпохи, а ограниченность источниковой базы, и конъюнктурность разного рода бывают свойственны и средневековой, и древней тематике.
Свою исследовательскую деятельность отец начинал с проблематики истории советского рабочего класса. Тема кандидатской диссертации (защита в Институте истории АН СССР 16.01.1964 г.): «Рост рабочего класса СССР в период завершения строительства социализма и в первые годы развернутого строительства коммунизма (1953-1961 гг.)». Тематика, безусловно, «отягощенная» идеологически: именно рабочий класс считался главной социальной базой и октябрьской революции 1917 г., и существовавшего в СССР общественного строя. Но «догматы» марксизма-ленинизма о «ведущей роли» и т.п. были лишь внешним ограничителем, за которым открывалось широкое поле реальных исследований, требовавшее и скрупулезного анализа, и творческого подхода.
Позднее круг научных интересов отца расширялся, и основной тематикой стала социальная структура послевоенного советского общества, социальные отношения в СССР. Тема докторской диссертации (защита в 1973 г., в Институте истории СССР АН СССР, решение ВАК от 1.03.1974 г.): «Рабочий класс СССР и социальный прогресс (1946-1970 гг.)». Само понятие «социальная структура» утверждалось в науке с трудом, ломало косный догматизм. Сегодня это кажется странным и нелепым, но тогда, в 1960-х годах, при десятилетиями господствовавшем представлении об интеллигенции как о «прослойке» между двумя классами (а значит, о не вполне полноценном, «ущербном» явлении «социалистического общества»), становление нового научного направления в историографии проходило очень непросто. Отец был одним из его родоначальников, и немало сделал для того, чтобы избавиться от доминировавшего идеологического стереотипа. Он одним из первых среди историков стал изучать всю совокупность социальных элементов советского послевоенного общества, включив в это рассмотрение интеллигенцию как полноправный его компонент.
В настоящее время ни «рабочий класс», ни социальную структуру СССР не изучают, а между тем, за этой тематикой скрывается другая – огромный исторический опыт советской модели индустриальной модернизации традиционного полуаграрного общества, в том числе в социальной сфере, и здесь решающие исследовательские прорывы были сделаны именно нашим отцом.
Мы, его дети, давно уже сами «остепененные» и прошедшие немалую жизненную и профессиональную школу, лишь сегодня можем в полной мере оценить уровень научной квалификации и творческий потенциал отца как исследователя-историка. Его профессионализм поражает, особенно на фоне современной «скудеющей научной нивы» и падения требовательности. Вот один из примеров, рассказанный когда-то сыну, в тот период – аспиранту. Изучая социальную структуру, социально-экономические процессы, отец широко использовал статистику, в том числе – данные текущего архива ЦСУ, которые далеко не всегда публиковали. Некоторые социальные «параметры» тогда были «засекречены», в частности, количество военнослужащих, заключенных, и др. И вот отец, разработав свою методику, по опубликованным данным произвел расчеты, по которым определил ряд таких «закрытых» профессиональных и социальных категорий. Когда он обратился к начальнику одного из статистических управлений и показал полученные цифры, тот удивился: «Откуда это у вас? Кто мог предоставить?» Погрешность в расчетах была минимальной… Это был «высший пилотаж», и нам не известны историки, которые хотя бы приблизились к этому уровню.
Сегодня в почете иные темы: история предпринимательства, меценатство и т.п. Важные, интересные, – спору нет. Но современная «элита», диктующая даже тематическую востребованность в исторической науке, наступает на все те же грабли, которые опрокинули старую Россию в 1917-м. И советскую Россию в 1991-м.
Отец был человеком своего времени. Заявление в партию он подал на фронте, и оставался до конца убежденным коммунистом. Не из тех перевертышей, что вдруг «прозрели» и демонстративно швыряли свои партбилеты в конце перестройки. Его волновали болезненные проблемы страны, которые он – как мало кто из профессионалов – глубоко осознал раньше многих. Еще в начале 1970-х он уловил едва намечавшиеся признаки грядущего кризиса: падение темпов экономического роста от пятилетки к пятилетке, экстенсивность развития народного хозяйства, невостребованность достижений науки и техники, рост уравниловки в распределении, перерождение партийно-административного аппарата и т.д. И озабоченно говорил об этом со своим сыном.
В 1973 г. отца должны были назначить заведующим другим сектором – истории рабочего класса, но помешал инфаркт, отцовская доверчивость и интриги одной коллеги, которая упросила отца оставить ее замещать его на время болезни… Временное стало постоянным… Лишь на закате жизни, в 1984 г. отец стал заведующим сектором Истории развитого социализма, фактически – коллективом, который призван был изучать «современную историю». Но наступала другая эпоха, в которую востребованным стало не изучение, а отрицание и ниспровержение. Новая «революция», новые идеологемы и мифологемы…
Жизнь отца оборвалась в самом начале перестройки, в которой он хотел видеть преодоление догматизма, обновление общества на основе раскрытия его потенциала, в том числе интеллектуальных сил. Он не мог предвидеть, что та обернется национально-государственной катастрофой. Отец оставался гражданином, болевшим душой за судьбу страны, и, может быть, к лучшему, что не увидел тотального умопомешательства, социальной истерии и массового предательства, распада общества и государства.
Отца не стало 24 августа 1986 г. Его сразил 4-й по счету инфаркт. Незадолго до этого сектор расформировали…
За четверть века отец опубликовал более ста научных трудов общим объемом свыше 350 п.л., в том числе более 10 авторских монографий на русском, немецком, польском и др. языках. Он подготовил немало аспирантов, большинство из которых позднее, к концу 1990-х гг., стали докторами наук.
А главное, он передал эстафету нам, своим детям. Мы старались стать достойными его преемниками.
* * *
Для нас он был лучшим отцом. Один из знакомых сказал: «Таких отцов не бывает». Он и жил семьей: она была на первом месте, а столь ценимое им творчество – на втором. В последние годы, тяжело болея, отец признался: «Мне так тяжело жить. Я живу только из-за дочери, чтобы успеть ее вырастить». Поздняя дочь была еще ребенком, и отец держался неимоверным усилием воли. Характер, воля у него были редкие.
Отец успел. Когда он ушел, сыну был 31 год, дочери исполнилось 19.
В семье мы помним отца как бесконечно доброго человека с лучезарной улыбкой.
Но он мог быть и другим – суровым, жестким, до конца принципиальным. Вероятно, во многом благодаря фронтовой закалке, одной из главных черт отцовского характера было упорство в достижении цели. «Если он за что брался, то не отступал, пока не побеждал», – вспоминают его друзья.
Отец был настоящим другом. «Жизнь наша после института сложилась так, что мы встречались редко, – рассказывает Евгений Басин. – Но я считаю Спартака одним из своих лучших друзей. Не надо часто и много видеться и вместе проводить время, чтобы быть настоящим другом. Друг – это даже одно сознание, что он где-то рядом, что он жив, значит – все в порядке. Спартака не стало – и этой уверенности стало меньше». И вспоминает, как отец поддержал его в трудную минуту, помог устроиться на работу: «Я ни о чем не просил Спартака, он сам мне помог – и это тоже черта настоящего друга: не ждать, когда тебя попросят, а самому придти на помощь – в очень тяжелую для меня полосу моей жизни. И я всегда нес в себе тепло, радость от настоящего дружеского участия Спартака...»
Он помогал многим, - друзьям, коллегам, ученикам, – как правило, без просьб, и всегда – бескорыстно. Иногда ошибался в людях, считая их лучше, чем они есть. Отца предавали не раз, он – никогда. Предательство, совершенное теми, кого он считал друзьями, его потрясало. Среди учеников был лишь один случай. Одна ученая дама, которую когда-то зачислили в аспирантуру только потому, что отец приложил огромные усилия, чтобы ее, недобравшую на вступительных экзаменах баллы, все же приняли, а потом и взяли в институт, перебежала в другой сектор, когда прослышала, что сектор отца могут закрыть. Но одно предательство влечет за собой другие: сегодня она даже не числит отца среди своих учителей. Что ж, люди никогда не могут простить своего предательства тем, кого они предают. Вероятно, потому что те напоминают им об их собственной низости.
Нельзя не упомянуть непримиримое отношение отца к бюрократизму, приспособленчеству, карьеризму, воинствующему мещанству… Если он сознавал свою правоту, то готов был отстаивать ее, какой бы высокий пост не занимал оппонент, никогда не считаясь с тем, чем такая бескомпромиссность может обернуться лично для него. Не случайно еще в армейских характеристиках отца (составленных не во фронтовых, а в учебных и резервных частях) встречается фраза: «Неоднократно вступал в пререкания с офицерами старшими по званию».
Евгений Басин вспоминает: «Запомнился взгляд Спартака, когда он смотрел на людей, которых не любил, не уважал или ненавидел. Я бы не хотел быть на месте таких людей. Сколько презрительной силы было в этом взгляде… Не ошибусь, если скажу, что самой характерной чертой его была нетерпимость ко всякой несправедливости. Причем, не просто эмоциональная нетерпимость, а на деле. Он сразу бросался в бой. Вся его жизнь – такой бой, он и сгорел в этом неравном бою. Его сердце не выдержало такого длительного напряжения. Сколько раз я ему говорил (да, конечно, и многие другие – о родных я уж не упоминаю): "Спартак, побереги себя, не "заводись"!" Но он не мог не "заводиться". Он и не мог быть другим. На таких неравнодушных, страстных, горячих людях и держится все, что есть хорошего на этой земле. К сожалению, – так всегда было, – таких людей очень мало. Много равнодушных…».
Основные опубликованные работы С.Л.Сенявского:
Монографии:Рост рабочего класса СССР (1951-1965 гг.). М., 1966; Рабочий класс СССР (1938-1965 гг.). М., 1971 (в соавт.); Изменения в социальной структуре советского общества (1938-1970 гг.). М., 1973; Die Arbeiterklasse der UdSSR. Berlin, 1974 (в соавт.); Рабочий класс – ведущая сила советского общества. (Вопросы методологии и истории). М., 1977 (в соавт.); Przemiany struktury spolecznej w zwiazku radzieckim. 1938-1970. Warszawa, 1979; Социальная структура советского общества в условиях развитого социализма (1961-1980 гг.). М., 1982; и др.
Литература о С.Л.Сенявском: Лукашевич В.Стихи из школьной тетради // Красная звезда. 1983. 7 мая.; Сенявская Е. Письма отца // Красная звезда. 1987. 3 января.; Сенявский Спартак Леонидович / Участники Парада Победы в составе сводного полка Военного института иностранных языков Красной Армии // ж.“Военно-исторический архив”. Вып. 9 (1). Материалы, посвященные 55-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 г. М., 2000. С. 253; Сенявский Спартак Леонидович // Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь. Изд. 2. Саратов, 2000. С. 465; Сенявский Спартак Леонидович // История интеллигенции России в биографиях ее исследователей. Опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург, 2002. С. 163.
Статья в формате doc
‐